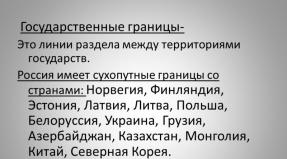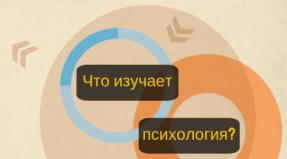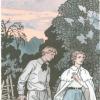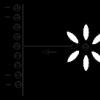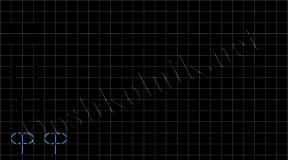Замерзшие немцы. Во льдах Приэльбрусья обнаружены "мороженые" тела немецких солдат. В российской грязи вязли даже танки
Битва за советскую столицу началась в конце сентября 1941г. К началу декабря наступил переломный момент в сражении, когда советская армия перешла в наступление. Немаловажную роль в ослаблении немецкой армии в этот период сыграла погода. Морозы в декабре 1941 г. в районе Москвы были очень сильными, термометр опускался до -40 С. Как оказалось, к такой суровой зиме советские солдаты были подготовлены лучше, чем немецкие. Гитлер рассчитывал на блицкриг в СССР, так что военные действия должны были закончиться до наступления зимы. Первые морозы ударили уже в начале ноября, в то время как немецкие солдаты оставались в легком обмундировании.
Немцы не носили валенки, а сапоги получали строго по ноге. Это, конечно, элегантно, но надеть тёплые носки в них было трудно.В России с 18 в. солдатам выдавались сапоги на размер больше, что позволяло набивать их соломой, а позднее газетами и избегать обморожений, даже если какое-то время не было валенок. Кроме того, немецкие солдаты зимой были одеты в продуваемые шинели, пилотки и матерчатые перчатки.
Свидетели этих событий также рассказывали, как немцы, разбуженные ночными залпами «катюш», выскакивали на улицу в кальсонах и замерзали заживо. Потери Германии из-за обморожений составили 133 тыс. человек. На передовой обморожения ног у немцев достигали в большинстве дивизий 40%.
Чтобы облегчить положение своих солдат на Восточном фронте зимой 1941 г. германский фонд «Зимняя помощь» стал собирать тёплые вещи. В Германии мужчины практически не носили зимние вещи, поэтому собирать их стали немецкие женщины. Это вызывало некоторое недоумение: сможет ли гордый немецкий солдат греть руки, например в дамской меховой муфте? Оказалось, что смог.
Незадолго до Рождества Гитлер отдал приказ о срочных мерах по улучшению положения замерзающих немецких солдат: конфисковать у советских пленных и гражданского населения зимнюю одежду, с помощью взрывов создавать окопы, организовывать для солдат отапливаемые опорные пункты. Однако изъятые у русских потрепанные вещи, так же, как и присланные из Германии, не соответствовали войсковым стандартам. Для создания отапливаемых опорных пунктов у немцев не было подходящего оборудования и строительных материалов.
Правда, немцам удалось, к примеру, вовремя поставить на фронт небольшие чугунные печки для отопления блиндажей. Они были нетяжелыми, и перенести их могли 2 солдата, но при этом они были способны обогреть довольно большие помещения. Среди советских солдат такие печки считались очень солидными трофеями.
Но проблемы были не только у самих бойцов вермахта, смазочные масла для их техники не были рассчитаны на такую низкую температуру, они просто замерзали. Сотни единиц немецкой техники вышли из строя. В то же время русские засовывали свои автоматы в меховые чехлы, а затворы пулеметов смазывали зимним маслом.
Безусловно, сильные морозы 1941-1942 гг пагубно отразились и на советских бойцах, многие из них так же, как и немцы, пострадали от обморожений. Однако русские гораздо лучше были подготовлены к подобным погодным условиям, что также сыграло свою роль в победе под Москвой.
Продолжение, начало постов под тэгом «1941 год глазами немцев»
После перерыва, вызванного наплывом текущих событий, продолжаю ставить подборку цитат из очень интересной, на мой взгляд, книги британского историка Роберта Кершоу "1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо Железных", в которой автор собрал и проанализировал множество документальных свидетельств участников событий по обе стороны восточного фронта
Как я уже говорил, на мой взгляд, книга особенно интересна тем, что это еще и взгляд на события 1941 года на востоке со стороны
Обратите внимание на совершенно разную приспособленность людей и техники к действиям в услвоиях сильных морозов в Вермахте и в Красной армии
Заголовки жирным шрифтом и подбор иллюстраций - мои, всё остальное - цитаты из книги Кершоу
Последний рывок к Москве - «неожиданные» морозы
«
В ноябре месяце 2-я авиаэскадра пикирующих бомбардировщиков докладывала: «Зимние метеоусловия, слякоть и непогода. Только пикирующие бомбардировщики с высоты в 100 метров атакуют пытавшиеся ударить во фланг 110-й пехотной дивизии советские танки». 7 ноября 1941 года температура понизилась до 20 градусов мороза, что вызвало отказ двигателей Ю-87. Командир авиаэскадры майор Хозель отмечает в военном дневнике: «Несмотря на все усилия, предпринимаемые нами, мы можем организовать не более одного вылета в несколько дней».
<…>
Обер-лейтенант Ганс Рудель, пилот пикирующего бомбардировщика, вспоминает, как «в результате резкого похолодания до минус 40 градусов замерзла даже смазка. Все бортовые пулеметы заклинило». И подводит печальный итог: «Борьба с холодом была ничуть не легче, чем с противником».
Офицеры люфтваффе под Москвой, 1941 год
<…>
Лейтенант артиллерии Георг Рихтер из 2-й танковой дивизии постоянно упоминает в своем военном дневнике о воздушных атаках русской авиации. Своего пика они достигли к концу ноября, совпав по времени со снижением активности люфтваффе. 26 ноября он записывает: «Прилетел целый рой русских самолетов, а наши можно было пересчитать по пальцам!» Запись следующего дня: «Русские господствуют в воздухе».
<…>
21 октября 1941 года один унтер-офицер из зенитного полка писал домой:
«Сколько мы еще пробудем здесь, зависит от того, как пройдет эта операция. Разумеется, самым лучшим было бы, если бы нас погрузили в вагоны да отправили в Германию. Но, возможно, придется и зимовать здесь. Этого мы не знаем».
Другой унтер-офицер из 167-й пехотной дивизии рассказывал о «самых разнообразных слухах». Говорили разное, «кое-кто утверждал, что нас уберут отсюда еще до Рождества, другие убеждали, что мы будем зимовать в Рязани, в 150 километрах от Тулы». В любом случае «к Рождеству мы отсюда уберемся».
<…>
Унтер-офицер из транспортного батальона писал домой в первых числах ноября.
«Никто не может понять, почему мы так и не получили зимнего обмундирования… Мне кажется [французы], в 1812 году были куда лучше одеты для этой зимы. Судя по всему, те, кто там наверху, просто не в курсе, иначе этот вопрос был бы решен».
Немецкие солдаты на Восточном фронте, зима 1941 года
<…>
«Все кругом только и думали, где отхватить себе что-нибудь потеплее, — рассказывал артиллерист Ганс Мауэрман, воевавший под Ленинградом. — У русских отбирали простыни и постельное белье, чтобы пошить из них хоть какое-то подобие маскхалатов».
<…>
Водитель русского танка Вениамин Ивантеев, служивший на центральном участке фронта, писал 17 ноября: «Немцы все еще ходят в летних шинельках». К ним в плен попал «18-летний мальчишка-солдат, худой, грязный, голодный». На допросе он рассказал все, даже показал нужное на карте. Когда его все же решили отпустить, этот немец ни за какие блага не хотел возвращаться к своим. Мол, «для него война была окончена». Так что уж лучше «попасть в плен, но выжить, чем тебя свои расстреляют».
<…>
«Ледяной ветер хлестал в лицо, — вспоминал пулеметчик Вальтер Нойштифтер, — покрывая инеем ресницы, брови». Холод проникал повсюду. Из-за морозов отказывали автоматы и пулеметы, не заводились двигатели грузовиков и танков. «Снова мороз, — констатировал лейтенант Георг Рихтер 5 ноября 1941 года. — Продолжится ли эта кампания?»
Немцы под Москвой, 1941 год
«14 ноября утром я посетил 167-ю пехотную дивизию и беседовал со многими офицерами и солдатами. Снабжение войск плохое. Не хватает белых маскировочных халатов, сапожной мази, белья и, прежде всего, суконных штанов. Значительная часть солдат одета в штаны из хлопчатобумажной ткани, и это — при 22-градусном морозе! Острая необходимость ощущается также в сапогах и чулках».
После этого Гудериан отправился на участок 112-й дивизии, «…где увидел ту же картину. Наших солдат, одетых в русские шинели и меховые шапки, можно было узнать только по эмблемам».
<…>
Прибыв в танковую бригаду, генерал увидел, что из 600 танков, насчитывавшихся в трех дивизиях, осталось только 50.
«Гололедица сильно препятствовала действиям танков, тем более что шипы еще не были получены. Из-за морозов потели стекла оптических приборов, а специальная мазь, противодействующая этому, до сих пор не была получена. Перед пуском танковых моторов их приходилось разогревать. Горючее частично замерзало, масло густело. Здесь также недоставало зимнего обмундирования и глизантина. 43-й армейский корпус сообщил о кровопролитных боях».
<…>
Вот что писал 17 ноября 1941 года генерал Гудериан:
«Мы приближаемся к нашей конечной цели очень медленно в условиях ледяного холода и в исключительно плохих условиях для размещения наших несчастных солдат. С каждым днем увеличиваются трудности снабжения, осуществляемого по железным дорогам. Именно трудности снабжения являются главной причиной всех наших бедствий, ибо без горючего наши автомашины не могут передвигаться. Если бы не эти трудности, мы были бы значительно ближе к своей цели.
И тем не менее наши храбрые войска одерживают одну победу за другой, преодолевая с удивительным терпением все трудности. Мы должны быть благодарны за то, что наши люди являются такими хорошими солдатами…»
<…>
На северном участке фронта холода наступили раньше. «Иногда мороз доходил до минус 40 градусов даже в бункере», — вспоминал Рольф Дам, радист пехотного батальона, участвовавшего в блокаде Ленинграда. Холода до крайности осложняли решение буквально всех вопросов. «Нельзя было ни помыться, ни сходить в туалет, — добавляет Рольф Дам. — Попробуйте-ка снять штаны на сорокаградусном морозе!»
Немецкие солдаты под Москвой, ноябрь 1941 года
Невероятный по протяженности фронт удерживали изрядно поредевшие войска. Генерал-фельдмаршал фон Бок предельно откровенен на страницах своего военного дневника. Запись от 1 ноября 1941 года:
«Положение отчаянное, и я с завистью поглядываю на Крым, где солнце и сухая степь, что позволяет нестись вперед сломя голову и где русские улепетывают от нас как зайцы».
И тут же добавляет:
«Так могло бы быть и здесь, не увязни мы в этой грязи по колено».
<…>
«Так что же, мы достойны сочувствия или все же восхищения? — такой вопрос задает солдат 260-й пехотной дивизии. — Не имея зимнего обмундирования, даже рукавиц и теплой обуви, мы коченеем в этих промерзлых насквозь дырах».
<…>
Фон Бок 21 ноября досадовал, что «наступление не обладает необходимой глубиной. По числу дивизий, если мыслить чисто штабными категориями, соотношение сил вряд ли менее благоприятно, чем обычно». Ужасны, по мнению генерал-фельдмаршала, последствия потерь личного состава, «…отдельные роты насчитывают от 20 до 30 человек…» Боеспособность войск существенно снизилась и в результате потерь среди офицерского состава: «громадные потери командного состава и усталость личного состава, да еще жуткие морозы в придачу — все это кардинально меняет картину».
Алоис Кельнер, курьер, постоянно сновавший из дивизии в дивизию под Наро-Фоминском, в 70 километрах от Москвы, был полностью в курсе обстановки на этом участке фронта.
«Замерзшие тела убитых немецких солдат штабелями уложены вдоль дорог, как бревна, — делится Кельнер впечатлениями. — В каждом таком штабеле человек по 60-70».
Резко возросли потери среди офицеров. «Наиболее ощутимы потери среди командного состава. Многими батальонами командуют лейтенанты, один обер-лейтенант командует полком…» — подтверждает и фельдмаршал фон Бок.
Командир танка Карл Рупп вспоминает «последнюю атаку в каком-то лесочке». Их подразделение наступало в составе 5-й танковой дивизии в 25-30 километрах от Москвы.
«Впереди двигались два танка Pz-II и два Pz-III. Замыкал колонну еще один Pz-II, в центре следовали автоматчики. Головной танк был подбит, экипаж погиб на месте. Я находился во втором. Пробиться не было никакой возможности, и нам пришлось повернуть назад».
<…>
Герд Хабеданк, стоявший как-то в охранении у одной из лесных дорог вместе с другими пехотинцами, «внезапно услышал гул танковых двигателей. Со стороны нашего тыла на нас неслись русские танки». Три советских «тридцатьчетверки» пронеслись мимо поста охранения, окатив всех снегом.
«К броне танков, — продолжает Хабеданк, — прижимались скрюченные фигуры русских пехотинцев. Видимо, они хотели таким образом прорваться к Москве». Немцы открыли беспорядочную стрельбу, и несколько человек русских свалились в снег. «Потом последний танк… въехал в воронку от снаряда, и тут в него угодил противотанковый снаряд. Но танк, как ни в чем не бывало, уполз прочь по узенькой дорожке и вскоре исчез из виду за деревьями, выплюнув синие клубы дыма».
<…>
Петер Пехель, корректировщик артиллерийского огня, вместе с группой танков направлялся к Волоколамску, расположенному в 60 километрах от Москвы. Ему, как и его товарищам, было явно не по себе — от волнения у них началась чуть ли не «медвежья болезнь». «Удастся нам сегодня или нет?» — не давала покоя мысль.
На том же участке действовали несколько танков Т-34 и БТ из 1-й гвардейской танковой бригады М.Е. Катукова. Им была поставлена задача устроить засаду вдоль той же дороги, в поддержку были приданы два батальона — пехотный и противотанковый. «По дороге ползла четверка немецких танков, — вспоминает Катуков. — И тут наши «тридцатьчетверки» из засады открыли по ним огонь».
Танки 1-й гвардейской танковой бригады в засаде. На переднем плане — легкий танк БТ-7, за ним виднеется Т-34. Западный фронт
Едва их танковая колонна оказалась под обстрелом с нескольких направлений, как «начался самый настоящий ад», свидетельствует Пехель. Беспорядочно маневрируя, немецкие танки оказались прямо под огнем русских противотанковых орудий. «Они подожгли головную машину, — продолжает Пехель, — затем снаряд попал в башню шедшего передо мной танка».
Так и не успев открыть огонь, был подбит и танк Пехеля.
«Вдруг как грохнет. И я ничего не вижу — искры из глаз. И тут я ощутил два резких толчка — в правую руку и левое бедро. Мой радист как завопит: «Мы подбиты!» И вдруг тишина, ни звука в нашем танке — совершенно жуткая тишина. И тут закричал уже я: «Все наружу! Быстро!» И стал выбираться из машины».
Из дымящейся груды металла удалось спастись лишь им двоим. Пехель, оглядевшись, заметил, что подбито уже пять их танков. Часть экипажей погибла в машинах, тела остальных лежали на снегу рядом с застывшими в неподвижности танками. Броня по правому борту была снесена 76-мм снарядами орудий Т-34.
«Превозмогая боль в правой руке и бедре, я привалился к танку, — продолжает рассказ Пехель. — И лицо заливала кровь, я даже видеть не мог». Вскоре кровь из раненого бедра Пехеля багровой ледышкой застыла на броне. Вокруг творился ад. «Кое-кто успел получить несколько ран», — рассказывает он. Вскоре и сам Пехель потерял сознание от болевого шока и потери крови.
«Командир танка, стоявшего рядом с моим, получил пулю в голову, и я видел, как у него по лицу мозги растекались. А он все продолжал бегать кругами, крича: «Мама! Мама!» И тут на его счастье его свалила другая пуля или осколок».
Из леса выбегали русские, они заметили Пехеля. Он, сквозь пелену оцепенения, стал понимать, что сейчас произойдет.
«Боже мой! Всего-то пару дней назад я видел их жертвы, ребят из нашей роты. Видел эти выколотые глаза, отрезанные половые органы, до неузнаваемости изуродованные лица. Нет уж, лучше смерть сразу, чем такое!»
Русские солдаты не проводили разницы между танкистами и эсэсовцами — и те, и другие носили черную форму. Иногда и у танкистов были на петлицах черепа, такие же, как у эсэсовцев из дивизии «Мертвая голова». «А тебе всего 19, ты ведь и не жил толком. Не хочу умирать», — вдруг мелькнуло в голове у Пехеля, когда он стал подумывать о том, не пустить ли себе пулю в лоб.
Но тут словно в сказке, откуда ни возьмись, появились танки — немецкое подкрепление! Машины с ходу пронеслись через позиции русских. Пехелю несказанно повезло, его подобрали, перевязали и отправили в тыл на излечение.
На поле боя под Москвой, 1941 год
Два танка Т-34 Катукова прикрывали отходящих с боем пехотинцев. Немцы, вскарабкавшись на броню советских танков, призывали экипажи сдаваться. Пулеметчик шедшего неподалеку другого танка Т-34, по словам Катукова, «дав очередь, смел противника с брони танка его товарища».
Несмотря на техническое превосходство танков Т-34, потери их были весьма высоки. В октябре умиравший от ран водитель танка Иван Колосов писал в последнем письме жене: «Я — последний из оставшихся в живых водителей танка из нашего взвода».
Тяжелораненый Колосов горевал о том, что больше не увидится с женой. Медсестра Нина Вишневская вспоминает об ужасных ожогах членов экипажей подбитых танков, о том, как сложно было вытащить их из объятых пламенем машин. «Очень трудно вытащить наружу кого-нибудь из экипажа, в особенности стрелка башенного пулемета». Вишневская описывает, каких душевных мук стоило перетаскивать изувеченных танкистов.
«Очень скоро, стоило мне пару раз увидеть обожженные до неузнаваемости лица, обугленные руки, я поняла, что такое война. Выбиравшиеся наружу члены экипажа получали тяжелейшие ожоги. И переломы рук или ног. Все они имели очень тяжелые ранения. Вот, бывало, лежат и умоляют нас: «Сестричка, если я умру, напиши моей матери или жене».»
Советский танк Т-34, подбитый и горящий под Москвой
Роберт Кершоу 1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо Железных
http://detectivebooks.ru/book/20480016/?page=1
Продолжение следует
На склоне одной из гор Приэльбрусья местные жители обнаружили сенсационную находку — целый батальон немецких егерей, видимо, попавших во время войны под лавину. Причем, снег за 70 лет спрессовался, и сквозь образовавшийся лед видны даже лица солдат.
Секретное подразделение под лавиной
Недавно в Нальчик к известному писателю и краеведу Виктору Котлярову обратился житель одного из балкарских селений Северного Приэльбрусья. То, что поведал паренек, стало для историка и издателя журнала «Эльбрус» настоящим шоком: в Кабардино-Балкарии на склоне одной из гор в ущелье они с друзьями нашли прошлым летом массовое скопление гитлеровских трупов, покоящихся под толщей льда. Молодым людям предстало жуткое зрелище: фашисты, которые лежали подо льдом группами и по одиночке на расстоянии десятков метров друг от друга, застыли в самых разных позах. Скорей всего отряд погиб внезапно и, даже не вступив в бой. Потому что среди примерно двухсот солдат, похороненных в высокогорной могиле, не просто нет раненных, не видно даже крови или других признаков, явно говоривших бы о характере смерти. Гость «Издательства Марии и Виктора Котляровых» утверждал это наверняка, так как через спрессованный за более чем 70 лет снег, превратившийся со временем в лед, прекрасно видны малейшие детали экипировки умерших: оружие, обмундирование, альпинистское снаряжение. Отчетливо видны даже лица егерей (а судя по экипировке, это именно они), до сих пор глядящих сквозь лед застывшими глазами.
Что это за секретное подразделение, попавшее под внезапную лавину в узком ущелье, пока остается загадкой. И не только для Виктора Котлярова. Доподлинно не известно даже то, к каким именно частям вермахта (и вермахта ли?) принадлежали погибшие. Старожилы Баксанского ущелья, бывшие во время войны еще совсем молодыми, вспоминают, что в одном из аулов, Заюково, квартировал странный отряд. Странность подразделения проявлялась, с одной стороны, в том, что немцы не воевали: ни убитых, ни раненных, по словам местных стариков, у них не было. С другой — если бы егеря принимали участие в боевых действиях, они бы не сидели на месте. У фашистов было с собой какое-то оборудование, погрузив которое на автомобили, они каждый день выезжали с рассветом в горы и возвращались лишь затемно. Чем они там занимались, что за технику возили с собой — тайна, покрытая мраком.
Братская могила — не по-немецки
Но массу вопросов вызывает даже не то, кем были умершие, сколько тот факт, что гитлеровцы остались незахороненными. Это, по словам поисковика Олега Заруцкого , нонсенс. Офицер, который возглавляет поисковый отряд «Память», работающий в Кабардино-Балкарии, поясняет, что за все время, что они занимаются поиском и идентификацией останков наших солдат в тех районах, ни им, ни коллегам из «Мемориала Эльбрус» и других поисковых команд не попался ни один незахороненный немец. Потому как гитлеровцы неукоснительно и с присущей им педантичностью хоронили каждого погибшего в высокогорных боях сослуживца.
Причем, у каждого фашиста был при себе так называемый индивидуальный жетон, состоящий из двух частей. Когда офицер или солдат погибал, специальная похоронная команда делала все для того, чтобы вытащить труп с поля боя, пусть даже если для этого требовалось поднять его из ущелья. Одна часть разломленного по перфорации жетона оставалась при военнослужащем, другую отправляли вместе с соответствующими бумагами в архив. Само тело, как правило, отправляли в Германию. Правда, сделать это удавалось не всегда — летом, в жару, тело быстро разлагалось. И в случае, если его не успевали отправить на родину, хоронили в специальных местах — на отдельно образованных кладбищах немецких военнослужащих (вместе с половинкой жетона).
А тут 200 вмерзших в лед и не преданных земле солдат и офицеров. Возможно, они стали жертвой собственной же секретности. То есть не исключена вероятность того, что о спецбатальоне ничего не было известно даже гитлеровскому командованию на местном уровне. А может, они просто заблудились и, скрытые под слоем снега, остались незамеченными для немецких поисковых или похоронных эвакокоманд.
Кроме рассказа о пропавшем немецком батальоне балкарец показал исследователю жетоны (не один и не два, а много), не переломленные пополам. Это еще раз подтверждает версию о внезапной смерти подразделения. Однако, военный историк Олег Опрышко , которому рассказали о жуткой находке, поставил эту версию под сомнение: чтобы такая большая группа гитлеровцев пропала без вести и никто (ни наши специалисты, ни немецкие историки) ничего об этом не слышал — такого, по его словам, просто не может быть.
Так немцы или наши?
Опрышко полагает, что речь все-таки может идти о наших военнослужащих, которых, как известно, находят в этих местах в безымянных могилах и просто незахороненными до сих пор. Ведь у нас, к большому сожалению, ни солдат, как правило, не жалели, бросая их в бой пачками, ни похоронить зачастую как следует не могли, потому что такой возможности, в силу ряда обстоятельств, иногда просто не было.
Так кто лежит под метровым (а местами и более) слоем льда — гитлеровцы или наши военнослужащие? Ребята, обратившиеся в «Редакцию журнала «Эльбрус», категорически стоят на своем: они уверены в том, что нашли погребенными именно немецких егерей — ну, в крайнем случае, румынских горных охотников. Об этом говорит хотя бы специальная экипировка солдат — такая, которой у красноармейцев и в помине не существовало.
Так или иначе, но Виктор уже начал собственное расследование, связавшись со своими немецкими коллегами и попросив их помочь разобраться в данном вопросе: сделать соответствующие запросы и подключить всех заинтересованных в этом лиц. Трудность, на его взгляд, заключается в том, что львиная доля архивных документов была вывезена американцами в 1945 году из Германии в США, где и пребывает до сих пор. Да и немецким добровольным помощникам тоже пока ничего существенного узнать не удалось.
Вот и приходится исследователям надеяться лишь на то, что им удастся извлечь из ледовой могилы угодивших туда солдат. Ведь при них наверняка найдутся прекрасно сохранившиеся документы и личные вещи. Поэтому в район массового стихийного захоронения в июле-августе текущего года готовится отправиться совместная экспедиция — соответствующие переговоры с немецкими поисковиками уже ведутся. Единственная проблема — «черные копатели», наплыва которых опасаются краеведы и исследователи. Именно поэтому место трагедии держится в строжайшей тайне. Получится поисковикам добраться до коварного ущелья или же нет — загадывать наперед не имеет смысла. Очевидно лишь одно: война не закончена, пока не захоронен ее последний солдат.
Ижевчанин Георгий Людков рассказал, как он пережил самую страшную зиму в своей жизни.
В Удмуртии осталось всего 11 участников битвы под Москвой, которая переломила ход Великой Отечественной войны. Один из участников ижевчанин Георгий Людков рассказал, что происходило 75 лет назад.
Мертвые немцы вдоль дороги
Георгию Михайловичу сейчас 95 лет, но он помнит ту зиму 1941-1942 годов в мельчайших подробностях. Одно из самых жутких воспоминаний Георгия – это мертвые немцы вдоль дороги. Но говорит он об этом... спокойно.
– Видел, как они замерзшие вдоль дороги стояли, а в руках держали плакаты с надписью «На Берлин!».
На вопрос – немцы пленные? Он отвечает:
– Почему пленные? Убитые. Наши солдаты ставили замерзшие трупы немцев в снег, а в руки вставляли им таблички, задающие направление советской армии, – спокойно поясняет мой собеседник. – Да, злобы в нас много было. А как иначе?
Георгий Михайлович рассказывает, что по всему было видно, что Германия готовилась к войне тщательно.
– Техника у немцев была сильная. Отступая, они ее побросали, так что мы могли ее изучить. Однажды в танке нашли маленькую таблетку. Лизнули – горько. Потом узнали, что это хлорка. Ее выдавали солдатам для того, чтобы обеззараживать воду. Вот только о том, что в Советском Союзе зимы холодные, немцы не подумали. Как они мерзли! У нас такой проблемы не было, мы были тепло одеты.

Фото: Сергей Грачев
«Тяжело видеть сгоревшие деревни»
Война для нашего героя началась в сентябре 41 года, когда его вместе с другими курсантами-добровольцами отправили под Москву. В подмосковный город Красногорск он прибыл только в ноябре. Там они сходили в баню, получили белье, теплую одежду. А дальше шли пешком...
Ночью 5 декабря (день контрнаступления советских войск, – Прим. ред.) нас всех подняли по тревоге. Приказали не смыкать глаз, поскольку противник может дать о себе знать в любую минуту. Мы с товарищами окопались, сидим, ждем. Тут приходит политрук и говорит: «Ребята, не спать! На Волоколамское шоссе Сталин должен приехать!». Ну, как после такого уснешь. Сталин, конечно, не приехал, а мы потом поняли, что это была хитрая уловка политрука...

Георгий Людков в июне 1941 года. Фото: Сергей Грачев
Георгий Людков рассказал, как, отступая, немцы сжигали целые деревни.
– Мы ехали в поезде, ночью вышли из вагона, смотрим на горизонте то тут, то там зарево. Спрашиваем: «Что это такое?». Оказалось, это деревни горят. Утром дошли до первой сожженной деревни, а в ней только печки остались. Идем дальше – везде такая же картина. Тяжело было это все видеть.
Пулеметчиков убили, встал за оружие сам
Первый бой, в котором участвовал ижевчанин, был под городом Торопец, который наши бойцы освободили в конце января 1942 года.
– Я был подносчиком патронов у пулеметчиков. Когда их убило, пришлось самому встать за оружие. После этого боя мы не досчитались половины ребят...
Вскоре сам Георгий тоже получил ранение - осколком мины его ранило в левое предплечье. До военного госпиталя в Торопце он шел пешком несколько дней, раненый.
– Люди разные по пути встречались. Кто-то последней картошкой был готов накормить, а кто-то говорил: «Много вас тут таких шатается», – вспоминает ветеран.

Фото: Сергей Грачев
Неравный бой
После ранения Георгий Людков попал в полк выздоравливающих. Оттуда его отправили на учебу в Ленинградское военно-политическое училище, где он получил звание лейтенанта, а потом в Горьковское танковое училище. Так Георгий Людков стал комсоргом самоходного артиллерийского полка.
«Панфиловцы, Зоя Космодемьянская и другие герои войны вдохновляли нас на победу. Поэтому мы не знали страху. Шли вперед и все»
– Самоходные артиллерийские пушки считались эффективным орудием в танковом бою. В 1944 году их стали приспосабливать на танки Т-34. Но только если у танка башня вращается во все стороны, у самоходной установки – нет, – объясняет участник войны. – Поэтому в наступлении они ничего не давали. Лучшим вариантом было вести прицельный огонь из хорошо замаскированного орудия.
Именно тогда в 1944 году Георгий Михайлович Людков получил свою первую и самую важную медаль «За отвагу» (медаль «За оборону Москвы» ему вручили только в 1981 году).

Фото: Сергей Грачев
Из наградного листа: «В боях 17-22 декабря 1944 года в районе Залдату Мазмаяс (Латвийская ССР), находясь на поле боя, на самоходной установке, принял удар 4 фашистских танков «Тигр». В неравном бою один из них подбил. Умелым маневром прикрывал отход 180-го стрелкового полка... Заменил в бою раненого командира взвода автоматчиков. Два раза водил бойцов в атаку. Лично истребил четырех гитлеровцев».
«Жить хочется!»
Георгий Михайлович Людков воевал до февраля 1945 года. В марте вернулся ненадолго в Ижевск, чтобы встретиться с девушкой, с которой учился в техникуме, с которой переписывался все военные годы.

Фото: Сергей Грачев
– Мы не стали дожидаться окончания войны и поженились 8 марта 1945 года. Потом я снова уехал. После войны еще два года служил в Польше, домой вернулся только в 1947 году. Десять лет работал в штабе противовоздушной обороны, а в 1961 устроился на завод «Ижсталь», в Управление капитального строительства – я же на строителя до войны выучился, оттуда на пенсию и ушел, – рассказывает о своей послевоенной жизни ветеран. – С женой прожили вместе 50 лет. Воспитали сына и дочь. Супруги уже нет, сына тоже, а я вот живу. И, знаете, жить хочется!

Памятный знак к 75-летию битвы под Москвой. Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев
Читайте также...
- Возможность и направление протекания овр Эдс меньше нуля реакция протекает
- Виды и размер стипендий студентам в россии Типичные ошибки при оформлении
- Невельской геннадий иванович - исследователь дальнего востока Г и невельской открытия
- Предметная неделя по окружающему миру для учащихся начальной школы Неделя по окружающему миру